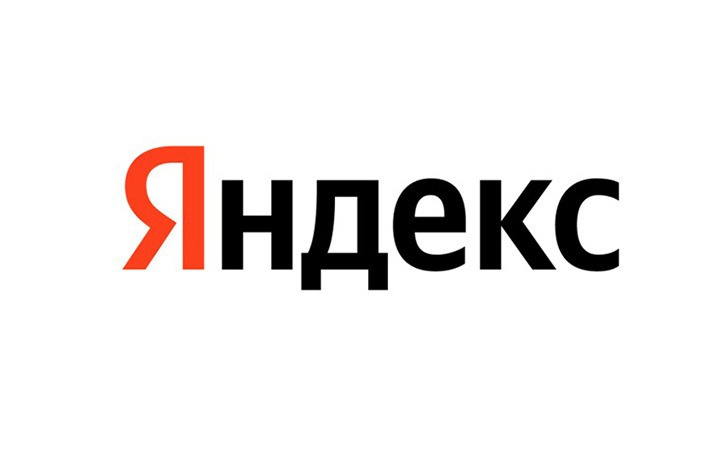Где и как снимали фильм «Братство»
Локации и специфика
Идея создания фильма принадлежит бывшему директору ФСБ, депутату Государственной Думы Николаю Ковалеву, который чуть больше месяца не дожил до выхода БРАТСТВА в прокат. В Афганистане он возглавлял оперативную группу Комитета госбезопасности СССР: обеспечивал безопасный проход колонн советских войск, вызволял солдат из плена, вел переговоры с моджахедами, помогал с нуля создавать систему безопасности страны. Эти события описал в своих неизданных мемуарах «Пламя Баграма» друг Ковалева, переводчик Владимир Колесников.
Лунгин хотел снять честное кино, не заигрывая с «ура-патриотизмом», показать настоящую жизнь на войне, в которой замешаны психологические коллизии, героические поступки и даже юмор. «Этот фильм не похож на мои предыдущие работы, – говорит режиссер. – Я всегда меняю жанры и в этот раз решил снять военную драму с элементами комедии. Так всегда и бывает на войне: в тяжелые минуты люди психологически пытаются облегчить себе жизнь смехом. В каком-то смысле я оглядывался на старые фильмы. Для меня ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ стали образцом непарадного героизма, это война через жизнь солдата, рассказ о простых людях».
Сценарий было поручено написать Александру Лунгину, в активе которого работа над более чем пятнадцатью кинолентами и телесериалами. Александр прочитал книгу Колесникова «Пламя Баграма», изучил множество материалов, а затем выдвинул требования: он должен сам побывать в местах, где происходили описываемые в будущем сценарии события. «Несколько недель я провел в Кабуле, побывал в других частях Афганистана, – вспоминает Александр. – Я познакомился с ветераном из Сибири, который воевал здесь, скорее всего, никогда после этого не выезжал дальше своего городка, накопил денег и вернулся сюда. Я встретил в Афганистане руководителя Российского центра науки и культуры в Кабуле Вячеслава Некрасова и только потом сопоставил, что в книге Колесникова рассказывается о Некрасове, который ездит по кишлакам и показывает советское кино, и это – один и тот же человек». Так из встреч, воспоминаний, документальных свидетельств и, безусловно, художественного вымысла, подчиненного авторскому замыслу, появился сценарий фильма.
Художник-постановщик Сергей Февралев, обладатель престижных российских кинонаград «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон», среди наиболее известных работ которого фильмы ОРДА, БЕЛЫЙ ТИГР, ОН − ДРАКОН, СКИФ, с большим энтузиазмом воспринял предложение поработать вместе с Павлом Лунгиным. Именно Февралев предложил снимать фильм в Дагестане, в котором он неоднократно бывал и знает в нем практически каждый район. В разных частях республики можно было найти необходимые локации для всех мест действия сюжета фильма. Так, старинное горное село Корода, расположенное в Гунибском районе республики, стало афганским кишлаком. Кинематографистов покорили его узкие наклонные улочки, полуразрушенные домики, нависающие над пропастью, и тесные дворики, окруженные строениями. Старый Дербент с его минаретами и банями 8 века, рыночными закоулками, и древними крепостными стенами наполнили вывесками на дари и пушту и заставили автомобилями 80-х годов, превратив в афганский город Чарикар. Палаточный лагерь на полигоне под Буйнакском, который дополнили советскими бетонными стеллами с высказываниями полководцев и огромной надписью «СССР – оплот мира»: он сыграл роль расположения военной части.
«Мы пытались найти для съемок такие места, в которых будет ощущение того, что это другая, непонятная и чуждая нам цивилизация, − рассказывает Февралев. − Опасный и агрессивный мир, с которым мы никогда не договоримся. Многоцветные барбухайки, пестрые вывески духанов, синие и зеленые двери построек, красные ковры в кафе, ультрамариновые чайники, пакистанские манекены на рынке, голубые паранджи женщин… любая найденная нами деталь, показывающая экзотичность Афганистана, помогала нам сделать его более непонятным и работала на задачу неприятия этой страны нашими героями».
И на фоне этого странного для нас, яркого мира совершенно чуждо выглядит форма пришедших в страну солдат. Художникам по костюмам было важно соблюсти историческую правду, тем более, что многие зрители еще хорошо помнят то время, а некоторые и вовсе служили в те годы в армии. «Казалось бы, всего 30 лет прошло, но найти армейскую форму конца 80-х оказалось достаточно сложно, потому что она менялась уже несколько раз, – рассказывает ассистент художника по костюмам Сергей Прищепа. – Камуфляж уже появился, но предназначался только для некоторых подразделений, остальные ходили в однотонной форме, на которую надевали по мере надобности маскировочные штаны или куртки, и эта особенность отличает нынешнюю военную форму от тогдашней, не говоря уже о покрое. Кроме того, рисунок камуфляжа, который в то время применялся, отличался от того, который применяется сейчас. Поэтому приходилось долго разыскивать форму по различным складам, находить людей, которые занимаются прокатом военной формы».
Не менее серьезно шла работа и над внешним видом жителей Афганистана. Художники вновь обращались к фото- и видеоматериалам, придумывали истории героев, которые можно было отобразить в их костюмах. И если основная масса афганцев выглядела примерно одинаково: пуштунские головные уборы, рубахи, штаны, плед или платок, а при помощи амуниции они превращались в моджахедов, то над образом полевого командира – инженера Хошема – костюмерам было особенно интересно поработать.
Наконец, чтобы погрузить зрителя в ту эпоху и в ту войну, нужно было найти честное визуальное решение. Нынешних посетителей кинотеатров не удивить яркими 360-градусными панорамами взрывов, превращающими войну в красочный аттракцион. Перед создателями БРАТСТВА стояла задача показать совсем другое – уродство и ужас войны. И одновременно перенести в конец 80-х. «Я прочитал сценарий и начал смотреть на YouTube ролики той эпохи, – рассказывает оператор Игорь Гринякин. – Сейчас в Сеть в широкий доступ выложено огромное количество материала – репортажи о выводе войск, съемки любительскими камерами процесса обмена пленными и многое другое, и эти видео задали визуальное решение фильма. Мы решили снимать на пленку 16-мм и добавить эффект живой ручной камеры, чтобы получилось что-то вроде документального сюжета. Палитра цветов изображения – слабый электронный сигнал, который даже яркие цвета немножко смешивает с каким-то серым тоном, контраст уменьшается, нет особой резкости. И вот эта достоверность и честность изображения, наверное, и есть основной прием нашего фильма».
Съемочной группе в работе над фильмом активно помогало Министерство обороны во главе с главой ведомства Сергеем Шойгу. Из мотострелковых бригад, которые дислоцируются в Буйнакске, было выделено несколько десятков военных, которые всегда находились рядом с кинематографистами: часть из них охраняла съемочную площадку, а другая часть снималась в качестве массовки. Также воинские части предоставляли всю необходимую для съемок военную технику. «Нам оставалось только обеспечить соответствие боевых машин тому времени, – рассказывает художник-декоратор Максим Козлов. – Мы меняли цветовую гамму на бронетранспортерах, БМП, автомобилях, а также номерные знаки, тактические обозначения, делали какие-то подтеки, добавляли элементы старения и выцветания». Иногда колонны военной техники, направлявшиеся из части на съемочную площадку, пугали местное население: так, со стороны проход боевых машин выглядел как подготовка к спецоперации. В съемках приняло участие полтора десятка единиц различной техники: БМП, БТРы, вертолеты и т.д. Оружие также частично было предоставлено военными, другая часть найдена реквизиторами на «Мосфильме», в общей сложности было использовано около полусотни единиц автоматов, пистолетов, подствольных гранатометов и др.
Выбранный способ съемки фильма подразумевал, что оператор с камерой всегда будет находиться в гуще событий, в том числе в боевых сценах. «И вот в тебя в упор стреляют из автомата Калашникова, – вспоминает оператор Игорь Гринякин. – И возникает новое ощущение жизни, потому что, а вдруг один из сотни холостых окажется боевым… кто их проверял?!». Операторской группе приходилось много двигаться и выдерживать на себе и направленные взрывы, и обрушение зданий, и камнепады. «Чем ближе ты к взрыву, тем больше ощущений от взрыва, тем правдоподобнее все это выглядит затем на экране», – говорит Гринякин. Поэтому операторам приходилось тщательно готовиться к каждой сцене, прежде всего продумывать, как защитить себя. В обязательную экипировку операторской группы входили удобные и надежные мотоциклетные куртка и перчатки, шлем с плотным стеклом, защищающим глаза, тяжелые ботинки и мощные штаны, позволявшие сгладить удары предметов, которые летели в человека с камерой.
Многие из членов группы фильма отмечали, что на съемках они будто сами побывали на самой настоящей войне. Условия на площадке были не самые легкие. Чтобы снимать по максимуму в световой день, кинематографистам приходилось вставать в 4 утра и отправляться из мест проживания к локациям фильма. Съемки проходили с конца сентября по середину ноября 2017 года, и в высокогорьях температура воздуха опускалась уже ниже нуля, с гор дул промозглый ветер, несколько сцен было снято в ледяной воде. «Все работали на таком подъеме, таком адреналине, что организм просто не позволял себе ломаться, – вспоминает Павел Лунгин. – Мобилизация была 100 процентов. Я сам пережил интересный психологический опыт, как бы пройдя кусок войны, о которой мы говорим. Ведь, когда работаешь, отождествляешь себя с героями».
Еще больше интересного в нашем официальном канале в Telegram
10.05.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: WDSSPR